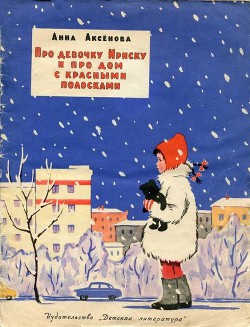же тяжело иметь сына.
оследние годы, взглядывая на жену, Петр Сергеевич часто удивлялся: как же рано она постарела! Ей он ничего не говорил. Зачем обижать? Но самого тихонечко томила боль и за нее и за себя. До чего же быстро промелькнула бабья пора. Что же, выходит, и ему подавать на старость заявку? Ему, в самом цвете сил?!
Иногда, в теплый летний вечер, чтобы сделать ей приятное, он приглашал ее погулять по бульвару.
Она радостно суетилась, надевала свое выходное платье черного кашемира — годов двадцать ему, не меньше, а все сносу нет, — нацепляла на уши позолоченные серьги и долго хлопотала вокруг него: то галстук перевяжет, то плечи почистит, то покажется ей, что манжеты недостаточно туго накрахмалены, рубаху заставит переменить.
По аллеям они шли медленно, оба в черном, и прохожие смотрели и оборачивались на необычную пару.
— Смотри, — счастливым, восхищенным голосом шептала жена, — смотри, как на тебя смотрят.
Бывало, даже сердилась:
— И чего эти сороки уставились? Мало им парней, уже на женатых заглядываются.
— Да будет болтать, — обрывал он ее, но невольно приосанивался и кидал по сторонам молодцеватые взгляды.
Когда-то Петр Сергеевич очень любил свою жену. С годами он привык к ней, привык к ее постоянному восхищению, к ее заботам. Их жизнь текла спокойно и гладко, как река в зарослях камыша. Он работал, она хлопотала по хозяйству. Незаметно проходили день за днем.
И вдруг случилось неожиданное.
Утром, как всегда, жена разбудила его, приготовила ему завтрак. А когда он вернулся с работы, соседка рассказала, что жену увезли на «скорой помощи».
— С животом у нее что-то. Аппендицит, должно.
Вечером он лег в холодную неуютную постель. Всю ночь трудно было уснуть, не ощущая под боком привычного тепла жены. А когда все-таки уснул, то чуть не опоздал на работу. И что это Татьяна надумала болеть? Никогда не болела, и вот на́ тебе!
По воскресеньям в больницу пускали на свидания.
Петр Сергеевич почистил костюм, оделся, взял кулек с апельсинами.
И когда неторопливо, как всегда, но впервые без жены шел знакомым бульваром, вдруг подумал: «А что, если вот так и придется ходить одному? А что, если не аппендицит? Что-то доктор все мялся, про анализы толковал…» Вспомнилось, как на даче, где они жили лет пять назад, хозяин, сухопарый, с козлиной бородкой старикашка, схоронив жену, через месяц привел в дом румяную горластую молодуху. «Нынче мужик в цене», — посмеиваясь, сказал он жильцу. Молодуха целый день гремела ведрами в огороде, то и дело слышалось: «Мила-ай, курей загони!», «Сбегай на рынок, милай, лучку продай!».
Петр Сергеевич даже плечами передернул. Упаси бог от такой напасти.
Он сам не заметил, как стал думать об этом, а когда опомнился, крепко разозлился на себя: «Да что это я, прости господи, живую хороню».
В больничном коридоре он встретил двух женщин, спросил, как найти жену. Те показали.
— Муж, наверное, — услышал он позади себя.
— Да нет, она…
Дальнейшее он не расслышал, догадался — удивляются. Пусть удивляются. А он свою Татьяну ни на какую молодую не променяет.
Петр Сергеевич еле отыскал в палате жену. Такая маленькая, незаметная лежала она в громадной белоснежной комнате.
— Пришел, — трудно улыбаясь, тихо сказала она.
Он с жалостью вглядывался в пожелтевшее лицо, черные круги под глазами.
— Скоро выпишут?
— Куда там, может, и совсем не вернусь.
— Вот еще! — неуверенно прикрикнул Петр Сергеевич. — Тебе еще жить да жить.
Больше всего он боялся сейчас, чтобы не выкатилась слеза, достал платок и принялся громко сморкаться.
— Как-то теперь сам справляешься?
— Без тебя как без рук, — сказал он правду.
— Да и то уж, смотрю, похудел — совсем юношей стал. — И тихонечко, завистливо засмеялась: — Прямо заколдованный ты какой-то, сорок лет живем — все не меняешься. Я уж тут всем про тебя рассказывала. Видишь, смотрят — ждали.
В самом деле, с соседней койки на него с любопытством смотрела женщина.
С тяжелым сердцем спускался Петр Сергеевич вниз. «Бедная Татьяна, плохо с ней, ой как плохо. Нет, не аппендицит, видать».
Гардеробщица встретила его упреком:
— Ты что ж это, дед, по больнице в калошах разгуливаешь? А?
В первую минуту он не сообразил, что говорят ему — до того его поразило слово «дед». Потом, поняв, он суетливо принялся сдирать калоши.
Гардеробщица засмеялась:
— Беда с вами, стариками, — что дети малые. Чего ж ты теперь сымаешь, ведь домой, поди, идешь?
Сутулясь под ее взглядом, он надел пальто, взял шляпу, палку, пошел к выходу.
Он уже хотел толкнуть зеркальную дверь… и задержался. Из зеркала на него смотрел седой старик с потухшими глазами. Лицо избороздили грубые складки.
И тут до него впервые дошло, что смотрел он всегда на себя ее любящими глазами и что теперь ни для кого он уже не будет ни молодым, ни красивым.
урий Афанасьевич готовил лекцию по просьбе детской комнаты милиции о воспитании трудных подростков и только сел за машинку, как вдруг принесли телеграмму.
Он не мог поверить и перечитывал телеграмму несколько раз, все пытался понять, что за ошибка в этом лоскутке бумаги. Племяннику жены Юрию было всего двадцать семь лет, он не был пьяницей, никогда ничем не болел. Правда, Гурий Афанасьевич не видел его уже пять лет, но по редкой переписке с родными жены знал, что там все благополучно. И вдруг эта ошеломляющая весть.
С тех пор как умерла жена — как раз пять лет назад, — Гурий Афанасьевич ни разу не был в Орле. Последнее в ее жизни лето они провели в Нарышкине и только вернулись — случился с ней неожиданный сердечный приступ.
Гурий Афанасьевич не то чтобы замкнулся, просто жизнь для него потеряла всякий интерес.
Они с женой мечтали, что скоро он выйдет на пенсию. Мечтали не потому, что он не любил свою работу, школу, а просто хотелось пожить в свое удовольствие — попутешествовать без оглядки на сроки, засесть наконец за военные записки — он был на войне переводчиком в штабе армии, кое-что повидал, мог бы и рассказать о войне по-своему. Мечтали, что вместе с женой станут писать заметки о воспитании — она была учительницей младших классов. Боже мой, сколько было задумано! И все рухнуло. Он не только не вышел на пенсию три года назад, когда ему стукнуло шестьдесят, но, наоборот, боялся
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)